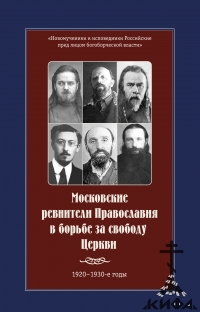Завершая книгу, мы однако не можем сказать, что завершили и заявленную тему. К тому же, в процессе работы она переросла рамки московской как таковой и вышла за пределы новоселовского круга друзей, что, однако, было неизбежно, поскольку слишком глубоки и важны оказались затронутые вопросы и проблемы. Но дабы не злоупотреблять вниманием читателей, пришлось остановиться и только обозначить некоторые из них. Постаравшись дать исчерпывающую информацию об иосифлянском движении в Москве, (как никак, а Михаил Александрович Новоселов именовался в следственных делах его «главным идеологом»), мы вышли напрямую и на тему непоминающих в целом, и в частности, «мечёвского круга», и сочли своим долгом включить в наш поминальный список вместе с именем священномученика Сергия Мечёва имена и других «мечёвцев», посвятив им отдельные главы. Их взаимоотношения с иосифлянами тема малоизученная и в будущем ещё должна быть подробно раскрыта. Для этого понадобятся дополнительные изыскания по антисергианскому движению: как в целом его развитии, так и по различным регионам, в частности в Тверской, Костромской и других областях, но прежде всего, Ярославской, где оно нашло большое число последователей благодаря духовному авторитету архиепископа Угличского Серафима (Самойловича). Исповедническая жизнь священномученика Серафима также заслуживает самого пристального внимания и еще ждет своего пера.
Смеем надеяться, что с Божьей помощью дальнейшая исследовательская работа и публикация ее результатов вместе с исполнением главной задачи нашей серии: доносить до читателей живые голоса новомучеников и исповедников, пострадавших от богоборческой власти за отстаивание церковной свободы, позволит также и найти ответ на один из самых животрепещущих вопросов современной церковной истории: кто является законным преемником их наследия.
В настоящее время прочно утвердилось мнение, что антисергианское движение закончилось вместе с кончиной митрополита Сергия, что все непоминающие, оставшиеся в живых после войны, присоединились к Московской патриархии вслед за епископом Афанасием (Сахаровым); что это был закономерный вывод из их осторожной позиции, которую теперь противопоставляют как умеренную и разумную - крайней и «неразумной по ревности» иосифлянской, выставляя таким образом иосифлян как некое недоразумение, «правый уклон» от верного пути, по которому якобы следовали все исповедники непоминающие и который рано или поздно, но неизбежно приводил всех в лоно официальной церкви.
В качестве весомого аргумента приводятся биографии оставшихся в живых «мечёвцев-маросейцев», особенно священников, присоединившихся к Московской патриархии. Как пишет в предисловии к главе о маросейцах составитель фундаментального двухтомника, посвященного жизни и пастырскому подвигу священномученика Сергия Мечёва: «Жизнеописание отца Сергея Мечёва, вокруг которого в тяжелые годы государственного и духовного слома России спасались не десятки даже, а сотни человек самых разных профессий, взглядов и устремлений, не может быть полным, если мы хотя бы в кратце не расскажем о некоторых из этих людей. Священники и миряне, связанные общей жизнью, общим духовным подвигом, они составляли сердце маросейской общины. К ним, “другам своим”, обращался отец Сергий Мечёв из северной ссылки: “Вы – мое дыхание, вы – мое радование…” В этих людях обретала полноту устрояемая им покаяльно-богослужебная семья, их судьбы неразрывно переплелись с судьбой их пастыря и наставника» .
Если следовать логике данного утверждения, то дальнейшая судьба покаяльной маросейской семьи – это и судьба ее духовного отца. Однако, насколько правомерно это умозаключение? Опубликованные биографии - доказательство не очень весомое (levis demonstratio – gravis confutatio). Во-первых, это далеко не все маросейцы – как и признает составитель: «К сожалению, наш рассказ не может быть исчерпывающим: о ком-то нет сведений, а чье-то имя и вовсе сокрыто под толщей времени, значит, впереди – новые открытия…». Во-вторых, из упоминаемых священников, только архимандрит Борис (Холчев) - старого рукоположения, да еще один из 4-х рукоположенных тайно в 1938 Мануилом (Лемешевским) (трое других оставались мирянами и не служили). Все остальные приняли сан уже в Московской патриархии. Поэтому факт их присоединения еще ни о чем не говорит и сам по себе ничего не доказывает.
Напротив, сами же мечёвцы, пребываюшие в официальной советской церковной структуре чувствовали насколько их нынешнее положение, мягко говоря, не соответствовало требованиям их духовного отца. Вот замечательное свидетельство, Софьи Александровны Энгельгардт (1895-1973), духовной дочери о. Сергия, немало ему помогавшей, и готовой ради него оставить всё в Москве . Она вспоминает как болезненно переживал кончину отца Сергия отец Борис Холчев: «Он считал, что были возможности его спасти от заключения, увезти его куда-нибудь так, чтобы никто не знал, где он, как это сделали духовные дети митрополита Гурия, когда увезли его в Фергану, и он несколько лет жил под Ферганой, и никто не знал, кто он. И с большой горечью в сердце обвинял всю паству отца Сергия в том, что в то трудное для него время, никто не позаботился о нем. – “Никто, кроме нас, не помог ему”, - сказал мне отец Борис. Только позднее при перестройке собора в Ташкенте, когда достать весь необходимый материал можно было только нелегальными путями, “слева” - как говорят, - отец Борис сказал мне: “Отец Сергий не смог бы жить в наше время”. Я охотно согласилась. Да, не смог бы - при абсолютной, тончайшей до совершенства, честности, не допускавшей ни в чем ни малейшей фальши и обмана. Господь знал, когда призвать Своего верного ученика. Угасли в нас благие порывы наших юных дней, погрязли мы всецело в мирских делах, вот отняты у нас настоящие пастыри, и нет в настоящее время таких людей, как о. Сергий
Так и в отношении остальных священников непоминающих. Мало, кто из них пережил 1930-ые годы. Почти все претерпели мученическую кончину. Большинство было расстреляно, (как проходившие по делу епископа Арсения, священники Сергий Сидоров, Михаил Шик, Петр Петриков, иеромонах Андрей Эльбсон и многие другие репрессированные в 1937-1938 гг.), либо замучены в лагере, как о. Александр Гомановский (в 1941 г.), или умерли как о. Серафим Битюков в катакомбах, в подполье (он служил тайно и скрывался в Загорске до самой кончины в 1942 г., так и был тайно похоронен под полом дома). О них, как и об их духовнике, о. Владимире Богданове, умершем в 1928 г., еще нужно писать отдельно. И, конечно же, о двух других его духовных чадах, замечательных московских священниках - о. Димитрии Крючкове и о. Владимире Криволуцком, тоже перешедших к тайному служению после арестов и ссылок. Они как раз из тех совсем немногих, кто пережили 1930-ые и военные годы, но в отличие от епископа Афанасия (Сахарова) до самой кончины оставались непоминающими и не признавали «восстановленной» Московской патриархии. Примечательно, что о. Владимира в 1956 году пред кончиной в Москве исповедовал и причастил игумен Иоанн (Селецкий), тот самый старец, который до самой своей кончины в 1971 г. духовно окормлял огромную катакомбную паству, в том числе и А. Ф. Лосева (См.: выше воспоминания А. А. Тахо-Годи).
Так что, утверждение о присоединении всех непоминающих к официальной церкви в СССР - необоснованно. Более того, точно известны имена только двух присоединившихся после войны московских непоминающих священников: иеромонах Иеракс (Бочаров) и священник Петр Щипков. В отношении архимандрита Серафима (Климкова) такой ясности нет, поскольку он оставался на нелегальном положении, хотя по свидетельству Арцыбушева А. П., он стал поминающим, и в 1970 г. его напутствовали и отпевали клирики Московской патриархии.
Но сколько всего оставалось священников непоминающих, и каковы их судьбы? До сих пор об этом мало, что известно, и еще предстоит изучать. Некоторые материалы, в частности воспоминания о непоминающих в Москве, помещаем в Приложении.
--------------------------------------------------------------------------------------
410. Грушина А. Ф. «Пребывавшие единым сердцем». /«Друг друга тяготы носите»… Кн. 1. С. 95.
411. «Моя последняя встреча с о. Сергием была в Москве, у моих друзей. Отец Сергей сказал мне, что сам не знает, куда он теперь поедет… Я сказала отцу Сергию, что я всецело в его распоряжении, что я охотно поеду по его указанию в любое место нашей страны, чтобы выяснить, где ему удобнее поселиться. Я предлагала ему, просила его согласиться на то, чтобы я поехала с ним на его новое место жительства, где бы оно ни было, с тем, чтобы служить ему, вести его несложное хозяйство. Я сказал отцу Сергию, что я легко откажусь и от своей службы, и от квартиры, и от вещей, которые можно поручить кому-нибудь продать, и последую за ним… Отец Сергий категорически отверг мое предложение и с большой любовью в голосе сказал: «Я все понимаю, но Вам нельзя». Он предвидел, что его ожидает и не хотел, чтобы кто-то из духовных детей потерпел за него…» «Воспоминания Софии Александровны Энгельгардт» / Надежда. Вып. 16, 1993. С. 221-222.
412. Там же. С. 223-224 .